Слово Мастеру: Всеволод Лебедев (21 ноября 1901 — январь 1938)
Автор: Анастасия Ладанаускене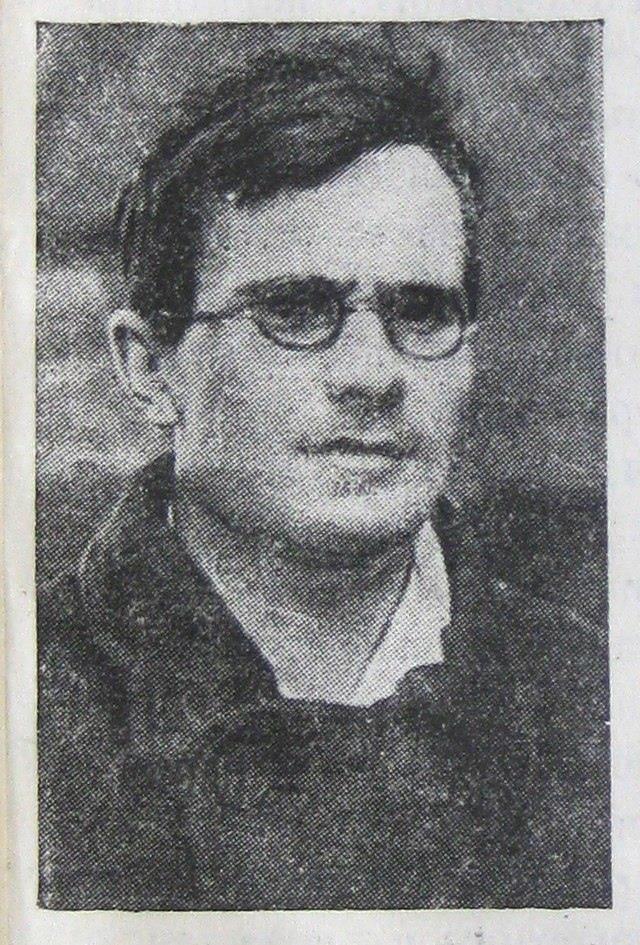
Писатель, литературный критик, собиратель фольклора Кольского полуострова, Удмуртии, Вятских земель, Урала, Уссурийского края
Из «Заметок писателя»
I
Да, я писатель. Вот сяду за стол — и напишу роман.
Вот вы, читатель, сядете через год за стол и прочтёте мой роман.
А пока посмотрите, как я пишу.
Не беспокойтесь: у меня всё заготовлено. Словечками героев полна записная книжка. Пейзажи, которые я вставлю в роман, не то что написаны, — нарисованы на полях записной книжки. Всё действие вычерчено вперёд.
Итак... «Товарищ Иванов вышел на улицу».
Дальше — природа, — весна! Нет, с природой поосторожнее. Недавно я начал рассказ прямо с синего неба, и небо захватило всю страницу, и ничего не удалось к небу приписать. Никаких героев. Небо загордилось, что я ввёл его в роман. «Бесконечно синее небо сияло над Москвой» и не пускало в роман никаких героев. А куда оно одно — небо! Я изорвал тогда написанное. Нет, природу нужно держать в руках. Давать её кусочками, под настроение героя.
Дай-ка, прямо начну: с героем случилось то-то и то-то. Ведь нельзя же, если герой вышел на Арбат, так весь Арбат и описывать. Читатель не дойдёт и до середины. Разве можно в роман вставлять Большую Дмитровку? Нужно на город смотреть глазами героя. Герой видит только то, что ему нужно.
Чёрт возьми, а здорово у Гоголя начиналось!
На улицу небольшого города въезжает бричка. Два мужика говорят о колесе — доедет ли колесо до Казани; а тем временем из брички вылезает человек, который не толст и не тонок, а уж трактирный слуга подскочил к нему и повёл его под руку по лестнице; а там, в зале, уже ждут героя картины на стенах и пирожок, и жареный поросёнок, а тем временем в городе...
Чёрт возьми, как всё сразу! Все эти герои прямо лезут к Гоголю, в его руки, сразу рассаживаются, куда нужно, по местам, все враз говорят — и читатель хорошо каждого по отдельности слышит.
А я — вышел с товарищем Ивановым на Арбат и остановился. И товарищ Иванов, герой моего романа, вместо того, чтобы самому идти вперёд и тянуть меня по своим следам (вот Гоголь бегал по Невскому проспекту за своими героями), — товарищ Иванов, как тень, лёг у моих ног. Я встал — и он встал, как тень. И мне это очень досадно.
Неужели я на руках потащу моего героя из главы в главу. Неужели его, как бричку, придётся ставить на колёса?
Чёрт возьми, но ведь я что-то хотел сказать своей повестью — сказать конкретное! А может, для этого не надо писать и описывать движения героя и приставлять пейзажи и сценки! Может, просто об этом сказать в двух словах?
Скажем, пошёл я в аптеку заказать лекарство — неужели я для этого должен написать повесть и прочесть её в аптеке, чтобы вызвать сочувствие к себе?
Я прямо скажу: тем-то и тем-то болен, дайте, пожалуйста, того-то и того-то.
Предположим, я уехал «открывать» Северный полюс и открыл его. Толпы людей стоят во всех городах земного шара у порога телеграфных агентств, чтобы узнать, что написано на этой ползущей из аппарата белой ленте — от меня, с полюса.
И вот толпе людей начинают читать: «Ураган ревел, как стаи разъярённых быков, в тот час, когда я...»
Как нетерпеливо вздохнут тысячи и сотни тысяч: когда же начнутся известия?!
II
А ведь верно. Так и получается. У меня знакомый писатель. Около него сидишь — как возле этого телеграфного аппарата. Ждёшь: а вдруг он что-нибудь скажет? И вот он начинает:
— Ласкающее небо стояло над городом тогда, когда я, получив задание... Серебристые облачка, как барашки...
— Да позволь, дорогой товарищ, почему тебе кажется, что до публики дойдёт только так, а не иначе?
— Иначе будет нехудожественно, — возражает мне товарищ.
— Нет, вот именно будет художественно. А почему ты думаешь, что не будет художественно, если ты для своего сообщения отыщешь ту предельно короткую форму, где не только не будет чувствоваться лишних слов, но как бы и никаких слов не будет чувствоваться: читателя сразу факты взволнуют — факты прямо сходят со страницы к его лицу? И уже потом, опомнившись, он начнёт задумываться: а в чём же секрет? Почему так написано, что действует, как удар? И тут увидит, что написано по-особенному. А у тебя получилось наоборот. У тебя факты не сходят со страницы, а придавлены к страницам — этими «барашками облаков» и «ласкающим небом».
III
Значит, своей теме, своему замыслу нужно найти предельно точный, предельно краткий язык. Но как же с Гоголем? Ведь он просто врал много. Вот «Нос»; в нём ничего нет, кроме вранья. А ведь нос этот тоже лезет со страниц к вам в лицо, и его вы не забудете.
Почему я не могу выдумать про своего товарища Иванова всё, что хочу? Буду выдумывать.
Давай выдумаю про него...
А почему сам герой ничего не выдумывает?
Пусть делает, что хочет. А он стоит и ничего не делает...
***
***
