Галина Серебрякова "Женщины эпохи Великой Французской Революции"
Автор: Григорий ПетровскийВроде бы эпоха в общих чертах знакома, знакомы и имена как героинь революции, вроде Теруань де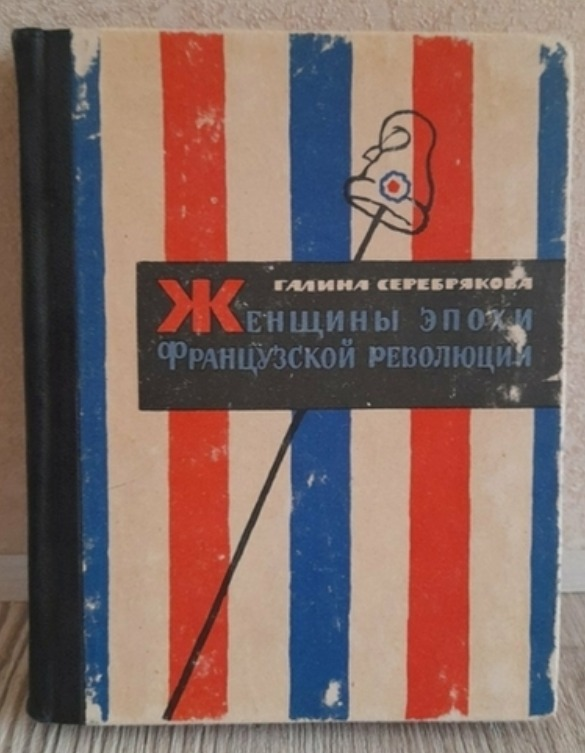 Мерикур, Клер Лакомб и Симонны Эврар, так и её противниц и случайных жертв - Шарлотты Корде и графини Дюбарри, Терезы Тальен и Жозефины Богарне. Но автор раскрывает их с такой стороны, что эта иллюзия знания развеивается, как пыль, и только челюсть отвисает от удивления.
Мерикур, Клер Лакомб и Симонны Эврар, так и её противниц и случайных жертв - Шарлотты Корде и графини Дюбарри, Терезы Тальен и Жозефины Богарне. Но автор раскрывает их с такой стороны, что эта иллюзия знания развеивается, как пыль, и только челюсть отвисает от удивления.
Над современными феминистками, признаться, я привык подтрунивать. Однако знакомство с положением женщин во вполне, казалось бы, галантном и просвещённом XVIII веке иной раз способно сделать феминисткой даже меня.
Саму Галину Серебрякову феминисткой в современном смысле отнюдь не назовёшь - советская писательница свои акценты и оценки пытается расставлять на другом. И эти жёстко политизированные, чёрно-белые акценты и симпатии, стремление сказать о давным-давно мёртвых "противницах" хоть какую-нибудь, хоть мелкую гадость, выискивая изъяны вроде второго подбородка у восходящей на эшафот Жанны Дюбарри или непривлекательности и отсутствия мужского внимания у Шарлотты Корде - пожалуй, единственное, что мешает читать интереснейший и увлекательный текст.
К чести автора, вольности она себе позволяет лишь в оценках, где автор, тем более не научной работы, а художественно-публицистических очерков, в общем-то, в своём праве. При этом отнюдь не старается замести под ковёр факты, даже если они в эти оценки явно не укладываются и позволяют внимательному читателю сделать некоторые самостоятельные выводы.
И первый из этих выводов, жёстко выпирающий из-под покрывала партийных оценок - это то, насколько женщина оставалась мебелью не только при Старом режиме, но даже в эпоху революции, когда, по замечанию автора, "декларация прав человека понималась как декларация прав мужчины". То, насколько судьбы всех описанных героинь, независимо от партийного деления на агнцев и козлищ, были предопределены этим фактом. И то, как дорого это невнимание к женщинам каждый раз обходилось самой революции - симпатизирующая якобинцам автор, конечно, этого не озвучит, но собранные ею факты сами за себя говорят.
"Красная Амазонка" Теруань де Мерикур может со шпагой в руках участвовать в штурме Бастилии, верхом и в мужском костюме возглавлять поход на Версаль, гоняться по его коридорам за перепуганной Марией-Антуанеттой, затем участвовать в штурме Тюильри и стать на короткий период народной героиней - но в приёме в Якобинский клуб женщине, разумеется, откажут. Но созданный ею женский клуб якобинцы, разумеется, закроют по жалобам мужей, дабы не отвлекал жён от домашних обязанностей.
Когда же разочарованная амазонка в результате примкнёт к врагам якобинцев, жирондистам - автор лишь осуждающе качает головой: "утратила связь с народом!"
Красавице Терезе Кабаррюс могут поручить изображать аллегорическую Свободу во главе демонстрации. Но на её, весьма умеренное, предложение допустить женщин хотя бы к работе в больницах, приютах и школах - депутаты Конвента лишь молча покрутили пальцем у виска. Как оправдывает Серебрякова - потому, что "добрые патриоты" не доверяли бывшей аристократке. Впрочем, бывшей крестьянке Теруань, как мы помним, они тоже не доверяли.
Педагогические исследования Терезы Кабаррюс о пользе физического воспитания по античным образцам, с требованиями обязательного начального образования, даже неблагосклонная к ней Серебрякова признаёт "толковыми и занимательными" - но в революционной Франции они легли под сукно. Плюнув на попытки общественной и научной деятельности, Тереза пошла по единственной открытой для женщины дороге, то есть по рукам, становясь, в зависимости от политической конъюнктуры, то супругой термидорианца Тальена, то любовницей главы директории Барраса или удачливого спекулянта Уврара, то, в период Империи и Реставрации, принцессой де Шиме.
Чтоб вы понимали уровень тогдашнего сюрреализма - ультрарадикальный якобинский клуб со скрипом признал право женщин на развитие своих способностей лишь со ссылкой на... решение церковного собора в Маконе 585 года, подтвердившего наличии у женщин человеческой души и разума!
Актриса Клер Лакомб, раненая при штурме королевского дворца Тюильри 10 августа 1792, получает почётный венок и свидетельство своих заслуг "от восьмидесяти трёх департаментов". Однако созданное ею "Общество революционных республиканок" вызывает нескрываемое раздражение у Робеспьера, старающегося не давать ей слова в Конвенте. Доклад Комитета общественной безопасности гласит, что "женщины не способны к возвышенным взглядам и серьёзным размышлениям, и не должны вмешиваться в государственные дела". Официальная газета "Монитёр" призывает женщин "не ходить в народные собрания с желанием выступать на них", а только иногда, чтобы поддерживать и воодушевлять мужчин. Прокурор Парижской коммуны Шометт опасается, что "излишние" права женщин порождают ненавистную ему "лёгкость нравов", и требует от женщин вернуться к своей природе, то есть домашнему хозяйству.
Наконец, следует декрет Конвента, запрещающий "женские клубы и общества, под какими бы наименованиями они не существовали". Героиня 10 августа Клер Лакомб оказывается в тюрьме. Освобождённая после термидорианского переворота, она благоразумно предпочитает отойти от политики, так что о дальнейшей её биографии и даже дате смерти сведения отрывочны и противоречивы.
Историческая мелочь? Но именно женские клубы были союзниками крайне левых революционеров, выразителей интересов широких масс бедноты, положения которых не улучшило ни взятие Бастилии, ни штурм Тюильри. Вместе с "Обществом республиканок" были запрещены и вполне мужские радикальные общества, требовавшие ограничения цен на хлеб и принятия мер против спекулянтов. Начав запрещать и рассаживать слишком радикальных революционеров и оттолкнув голодную бедноту, якобинцы сами качнули маятник истории вправо. И когда вожди крупной буржуазии (тех самых хлебных спекулянтов) Баррас и Тальен 9 термидора 1794 года решили качнуть его ещё правее, выступить на стороне Робеспьера оказалось уже некому.
В качестве женщины, избежавшей как искушений прокладывать путь к успеху влагалищем, так и политических интриг, в те годы неминуемо ведущих на эшафот, автор выводит Симонну Эврар - любовницу и верную помощницу Марата. Женщина, ухаживающая за смертельно больным возлюбленным - образ, действительно, достойный симпатии. Но без Марата, после его смерти, Симонна не представляла из себя ничего и не была интересна никому - даже гильотине.
Большинство выбранных автором образов показывает, что женщины конца XVIII века давно переросли этот, сложившийся в средние века, порядок. Даже дочь консервативного нормандского дворянства, воспитанная в католическом монастыре Шарлотта Корде, для одних - фанатичная убийца, для других - мученица за престол и веру, при внимательном рассмотрении оказывается намного сложнее этих схем. Шарлотта - юная бунтарка и девушка с характером, хлопнувшая дверью отцовского дома, что для барышни из благородной семьи в те годы поступок неслыханный. Дворянка, но из обедневшей семьи, потому в монастырской школе лишённая подруг и коротавшая одиночество в богатой монастырской библиотеке. Её замысел убить Марата созрел после неудачных попыток подвигнуть к действиям нерешительных жирондистских депутатов, скрывавшихся в Нормандии, после того, как на попытку жирондистов собрать собственную армию откликнулось только 30 человек. Шарлотта Корде, отказавшаяся от исповеди перед казнью - вовсе не слепое орудие, науськанное реакционными аристократами и религиозными фанатиками. Шарлотта - это разочарованная мужской нерешительностью и неспособностью валькирия, готовая всё сделать самой.
В эпоху Реставрации и Второй Империи из казнённой Шарлотты сделали икону. Но для своего лагеря она была гораздо удобнее в качестве мёртвой мученицы. С живой Шарлоттой Корде консерваторы и католики ещё настрадались бы - во всяком случае, загнать её в "киндер-кухен-кирхен" точно бы не получилось.
К Жанне Дюбарри, поднявшейся из трактирных проституток в графини и официальные фаворитки короля, автор отчаянно пытается вызвать нашу антипатию, представив её трусливым великосветским ничтожеством и воплощением пороков Старого режима. Жанна действительно могла поддаться страху и слабости в свои последние минуты. Но она же, когда речь шла о жизни её любимого мужчины, предстаёт женщиной жертвенной смелости, и, единственная из всех разбежавшихся придворных, остаётся ухаживать за умирающим от заразной оспы Людовиком XV.
То, что из десяти вошедших в книгу персон Теруань де Мерикур и Жанна Дюбарри начинали свой политический путь именно в проституции, а "принцесса де Шиме", по большому счёту, отличалась от них только ценовой категорией - лишний раз намекает нам, что доступные женщинам социальные лифты были, скажем так, весьма специфическими.
Избранный автором формат сборника новелл не позволяет развернуть подробную биографию каждой из женщин - но на доставшихся им 10-20 страницах автор умело освещает несколько ярких моментов, дающих почувствовать не только характер героини, но и веяние эпохи. Вероятно, за почти сто лет (первое издание "Женщин..." вышло в 1929 году) историческая наука какие-то факты скорректировала, использовав новые источники или отвергнув утверждения, почерпнутые из явной пропаганды и не слишком надёжных мемуаров. Но для своего времени за добросовестность Серебряковой как исторической писательницы ручается предисловие профессора А. З. Манфреда - крупнейшего советского историка ВФР. А литературная занимательность её произведений остаётся неподвластной времени и сейчас.
