Рецензия на роман «Комиссар, часть 2. Орудия войны»
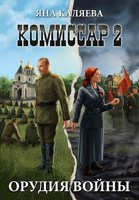
Продолжим обсуждение трилогии Яны Каляевой «Комиссар». Если первая часть «Порождения войны» это сценарий возможной победы белых, именно как сценарий не слишком точный, о чем писал в предыдущей рецензии, то вторая часть «Орудия войны» это результат победы контрреволюции. С помощью перевыборочных методов построить модель не сложно. Комбинируем продажу страны оптом и в розницу в 90-х, нацистскую оккупацию и белогвардейский террор получаем реальное отношение западного (а XX веке другого не было за исключением Японии) империализма к русскому народу. Примерно это мы и видим. Сценарии для проигравшей стороны тоже известны эмиграция, партизанская война, «освобожденный район». Тамбовщина в качестве освобожденного района подходит не очень — лесостепь не слишком соответствует описанию «изолирующей местности» и до границ с внешними источниками снабжения далеко. Но здесь работают перевыборочные правила использования реальных событий (антоновский мятеж 1921) в другом историческом контексте. В роли Советского Союза, бескорыстно снабжавшего китайских коммунистов, неожиданно оказывается преследующая свои империалистические интересы Франция — концепция управляемого хаоса явно опережает время — Антанта, скорее всего, просто настояла бы на расчленении бывшего союзника, а за долги националисты продали бы свои страны. Вообще внешеполитическая обстановка по крайней мере в первых двух книгах обозначена весьма схематично неясно даже закончилась ли Великая Война тем же самым версальским миром и какую часть территории Российской империи контролирует белое правительство. Есть вопросы и к модели внутренней политики. Проистекают они во многом из противоречивости начальных данных первого тома. По сути, комбинируются два плохо совместимых сценария риск политического поражения летом 1918 и риск военного поражения осенью 1919. В первом случае несостоятельности революционной власти возник бы политический вакуум объединяющей программы, которая в реальности была у большевиков не оказалось бы ни у кого. Эсеровский КОМУЧ обанкротился на предшествующем этапе, а вложенные в голову Щербатову идеи слишком невнятны чтобы оформить отсутствовавшую в России нишу штрассеризма. Социализм во имя Империи мог бы быть большевизмом без большевиков и от социализма во имя мировой революции технически бы не отличался. Но даже для такой псевдоальтернативы нужна партийная организация. Гипотетическое военное поражение Советской России в конце 1919 вело бы к установлению оккупационного режима близкого к описанному в книге, но тогда страна была бы еще поделена на воюющие друг с другом оккупационные зоны в зависимости от того, клиентом какой из метрополий был бы тот или иной белый генерал. В книге вообще много прорывов из неслучившегося, узнаваемых читателями, но нарушающих причинную ткань повествования и мотивацию действий персонажей. Так, например, лозунг «за Советы без коммунистов» получил распространение среди недовольных продразверсткой крестьян ближе к концу Гражданской войны. Отменить продразвестку без прекращения войны было невозможно, поэтому белые, заняв ту или иную территорию, получали все проблемы красных. Единственное существенное различие между красным севером и белым югом заключалось в относительной обеспеченности зерном, промышленность же сколлапсировала по всей Росс после оккупации немцами Донбасса и только жесткое нормирование военного коммунизма позволяло красным держаться против интервентов. Так что картина дореволюционного Петербурга хотя бы в пределах Невского проспекта выглядит несколько оптимистичной, призванной отвести обвинения в излишней ангажированности. На деле в период гражданской на белых территориях «чистая публика» не могла позволить себе восстановить прежний образ жизни за исключением быть может самых высших слоев (но и у них стандарт был еще выше), и нередко белые офицеры получали паек меньший, чем краскомы. Неизбежные попытка «все вернуть» лишь ускоряли поражение белых. Самый надежный способ разжечь гражданскую войну это отнять у крестьян землю, что и происходит в книге. Символический финал, в котором снова видны отсылки к Ефремову, но уже не к «Часу Быка», а «Таис Афинской» — сама Мать Сыра Земля поднимается против своих угнетателей!