Рецензия на роман «Белый Север. 1918»
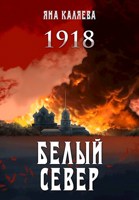
Рецензия на текст «Белый Север» автора Яны Каляевой
Книга сия в глазах моих имеет не менее двух недостатков и несколько большее количество достоинств.
Язык безусловно относится к достоинствам. Язык достаточно простой, чтобы читатель не лазил поминутно в гугл, но и в то же время достаточно отличающийся от современного — даже не столько набором слов (лексикой), сколько построением фраз. Язык в немалой степени отвечает за удачное и полное создание атмосферы старого Архангельска.
Следующее достоинство книги — невооруженным взглядом видно, сколько автор перелопатил источников. Подробности, детали, мелочи — миллионы их, тысячи их. Город проявляется в высоком и низком; автор описывает и богатые дома, и самый северный трамвай в России — но тут же и показывается, что высоты техники достигнуты лишь, чтобы возить на работу грузчиков. Потому что Архангельск принимает английское снаряжение для воюющей России. Война-то все еще идет, и война мировая.
Из внимания к деталям неизбежно образуется и внимание к характерам действующих лиц. Скажем, трех важных функционеров буржуазного правительства я могу назвать сходу: старик Чайковский, «главноуговаривающий», русский интеллигент царской выделки со всеми положительными и отрицательными свойствами типажа. Молодой рьяный офицер Чаплин, как положено его архетипу — любитель простых решений, не особо задумывающийся, во что они вырастут. Наконец, скучный Гуковский, ревнитель закона и процедуры, но на фоне остального паноптикума выглядящий единственным нормальным человеком в кадре.
С другой стороны — Миха, гений народной дипломатии, знакомый со всеми и везде, ловкий до того, что едва не организовал профсоюз работников полиции прямо в участке, где отбывал задержание. Маруся, пламенная большевичка, и нет — она не девушка героя. С девушками у героя в самом деле «все сложно». Затем англичане и французы, по сложившейся традиции показанные кратко, силой «за кадром» — но показанные столь же подробно и четко, что из декорации превращаются в своеобразный «дамоклов меч» над головами вех участников драмы.
Однозначно удались автору и военные. Первоначальное недоверие Жилина. Генерал, вступивший в Иностранный Легион, потому что никто ему не подавал руки. Новоприбывший командующий, пафосный в речах и умилительно-деловитый в карьеризме.
И да, наконец-то, сам герой. Максим Ростиславцев. Если кто не в курсе, то главного героя «Обитаемого острова» Стругацких именно так звали в первой версии. В Максима Каммерера его превратила цензура. Подозреваю, что совпадение это вовсе не случайное. Максим провожает читателя по выстроенному миру. Все происходящее автор подает строго через Максима. И уж конечно, герой чувствует и подробно обдумывает (рефлексирует, по-научному) свои чувства и все происходящее.
Вот тут звоночек первого недостатка. Автор попадает в ту же ловушку, где оказались Полищук с его «Зенитчиком», Ивакин с «Мы погибнем вчера», Zampolit с «Касиком» и «Юнаком» — ну а Сергей Сезин вообще живет в этом режиме безвылазно.
Подробное и глубокое описание происходящего с героем делает книгу без ложной скромности великолепным историческим романом. Однако, большая часть читателей не знает настолько много, чтобы отличить исходный мир от альтернативной ветки развития. Особенно при настолько большом числе подробностей. Подробности ведь ни в школах не учат, ни даже в институтах, кроме профильных исторических. А если еще усугубить местным колоритом — быват, его трескоеда и знает, но я точно нет. Поэтому при чтении мне постоянно не хватало замечаний героя: «А вот в реальности случилось так-то».
Тем не менее я сам назвал книгу великолепным историческим романом — ее вполне можно читать, вовсе не отвлекаясь на альтернативу. Просто ради атмосферы, ради погружения в судьбу Максима Ростиславцева. Правда, тут нас поджидает второй тревожненький звоночек. И он тоже типичен для современных авторов.
Книга не закончена. Да — Максим ощутимо меняется в ходе романа. Ту же Марусю и вовсе выворачивает наизнанку, что душой, то и в немалой степени телом. Но это именно промежуточный финал. Ступенька важная — а только прямо в глаза бьет, что ступенька совсем не последняя. Это полноценный первый акт большой пьесы. Нет, это не навязший в зубах «многообещающий первый том-завязка», и не кусок повествования, ограниченный чисто технически по количеству знаков. Тут есть собственная завязка, вхождение в экспозицию (сцена бунта типографии), нарастание напряжения (поход в Усть-Цильму), кульминация (казармы) и развязка в пределах тома (к герою теперь относится иначе его самый верный спутник, попутчик с первой страницы).
Но все же развязка отчетливо промежуточная. Точка отчетливо не последняя. Надеюсь, автор все же доведет историю Максима — ну и города с ним — до некоего общего завершения, подбирающего хотя бы восемь из десяти сюжетных линий. Понятно, что придраться и тогда будет не к чему: авторское внимание к подробностям превращает случайные ошибки в необходимые детали фона. Поэтому, сколь ни глупо поступит Максим далее по тексту, все это хорошо ляжет на заявленный характер человека мечущегося, искателя собственного места в жизни.
Ну, то есть, по скромному моему восхищенному мнению, никоим образом не претендующему на статус абсолютной (а хоть и относительной) истины.
 КоТ
КоТ
Гомель
23 IV 2024 AD
